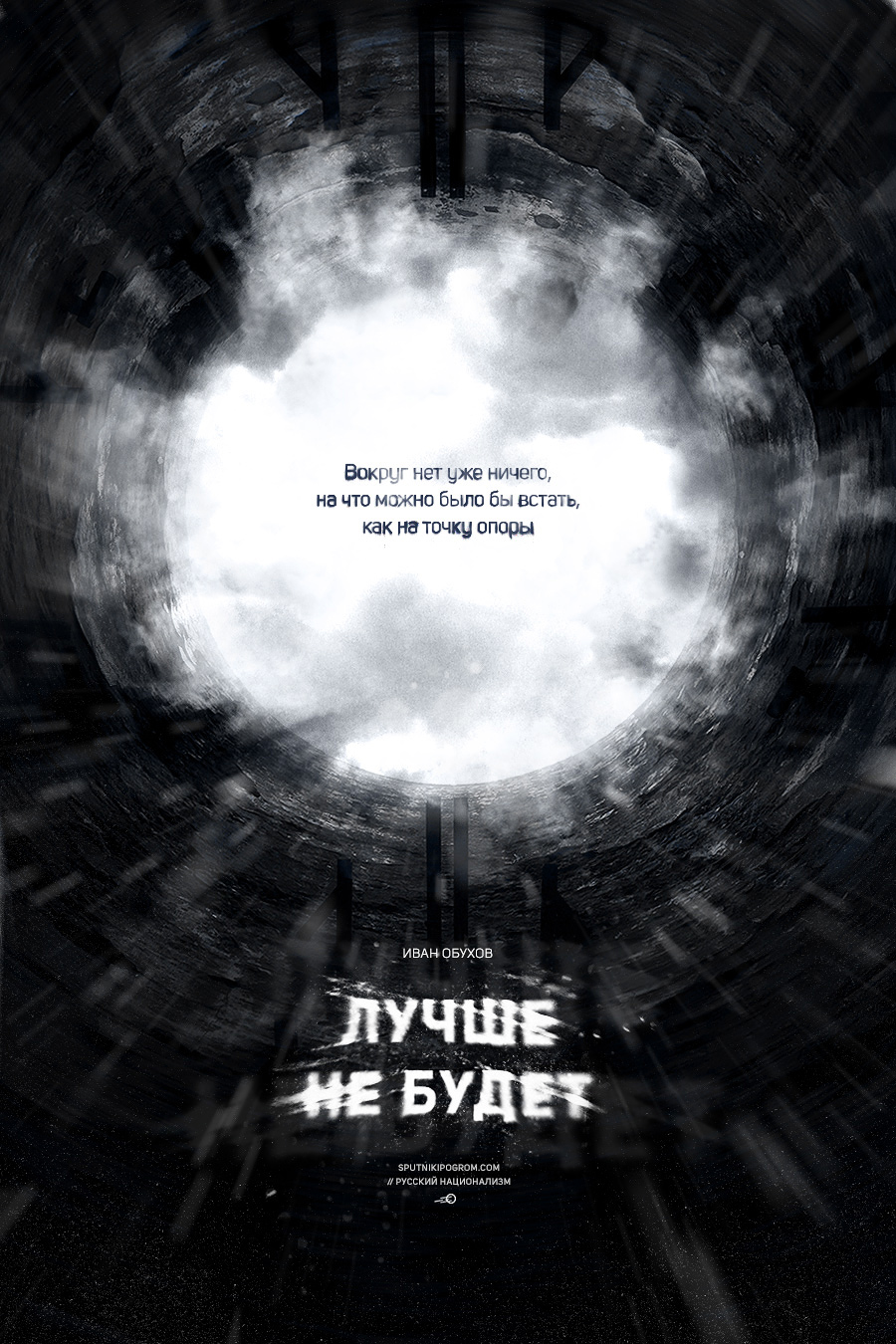среда, 31 декабря 2014 г.
вторник, 16 декабря 2014 г.
Выбери жизнь. Выбери работу. Выбери карьеру. Выбери семью. Выбери огромный телевизор, выбери стиральные машины, автомобили, проигрыватели компакт-дисков и электрические консервные ножи. Выбери первый дом. Выбери друзей. Выбери свое будущее. Выбери жизнь.
Но зачем мне это? Я решил не выбирать жизнь. Я выбрал кое-что другое… А причины? Причин нет. Кому нужны причины, когда ты живешь в России?


понедельник, 10 ноября 2014 г.
Три письма женщине
«Как писала Каренина в письме к Мэрилин: колёса Любви расплющат нас в блин…»

Говорят, что есть люди, которых жизнь ничему не учит. Не знаю, отношусь ли к ним я, но я хочу думать, что нет, не отношусь.
Этот год преподнёс мне несколько «уроков». Каждый из них был связан с какой-то потерей. Меня успокаивают, что там, где убыло, обязательно прибудет. Но мне не становится спокойнее от этих слов. Потому что есть потери, которые нельзя возместить. Спустя 8 месяцев, и даже раньше, я отчётливо понял, что моей самой большой потерей была ты.
Я мучительно думаю о том, чему это должно было меня научить. Для стороннего наблюдателя это может казаться нелепым, но мне кажется, что я научился быть благодарнее. Отношение ко всему как к должному, жадность, самолюбие (а, собственно, за что?) — да, это те черты, которые у меня есть. Это те шоры, которые не позволили мне увидеть и понять, кто на самом деле находился рядом со мной. Это то, что позволило мне так легкомысленно, так зло, в плену мимолётного эгоистичного раздражения отмахнуться. От кого? От человека, который был близок ко мне, и открыт для меня так, как мало кто вообще способен приблизиться и открыться.
Зачем я пишу всё это? Говорят, если можешь не писать — не пиши. Но я не могу не писать. И поэтому набираю строчка за строчкой это письмо.
Я не знаю, о чём ты думала тогда, о чём ты думаешь сейчас, и мне не дано этого узнать. Но я искренне надеюсь, что ты освобождена от тяжести того мучительного сознания, которое сейчас терзает меня. Возможно, ты уже даже встретила человека, который и лучше, и внимательнее, и благодарнее меня. Это несложно. И я бы по-настоящему этому порадовался. Сейчас, когда твой вопрос «Ты меня любишь?», наконец обрёл для меня чёткий и ясный ответ: «Да, я тебя люблю».
Интересно, все ли важные вопросы получают свои ответы тогда, когда сам вопрос уже теряет свою актуальность?
Будь счастлива. Ты заслуживаешь этого, как никто. Я хочу, чтобы так было.
***
Последние несколько дней я постоянно думаю о тебе. Почему именно сейчас? Вернее сказать, почему так часто именно сейчас? Не знаю. Может быть дело в том, что время неукротимо приближается к отметке, занозой засевшей в моей памяти.
После того как я написал тебе, мне стало немного легче. Но тяжёлые давящие мысли не ушли. Сегодня утром я вспоминал о том, что рассказывал тебе обо всех моих предыдущих историях. В памяти живо предстали образы, эмоции, переживания. И этот раз, хотя он тоже по-своему особенный (а он по-настоящему , исключительно особенный, и ты знаешь почему), не первый. Я сидел, молча курил, и вспоминал те моменты, когда я испытывал неподдельные муки. Особенно острые оттого, что был молод и ещё не знал как унять эту боль, ещё не знал, что неизбежно наступит «завтра». То самое «завтра», когда «всё уляжется, и всё пройдёт».
Это как взрыв бомбы рядом с тобой. Сначала ты оглушён, ослеплён, безумен. Потом ты начинаешь приходить в себя. Но раненое тело ещё ноет. Ноет, потому что из него медленно, но начинают выходить застрявшие осколки. Хотя бы в виде таких вот писем.
***
Что я имею в виду, когда говорю, что думаю о тебе? Что имеют в виду люди, когда говорят, что они о ком-то думают? Воспоминания? Да. Но что за ними стоит? Как они выглядят? Какие они? Мои воспоминания — это фрагменты. Пазлы, кусочки, лоскутки.
Помню нашу первую встречу. Была зима. Был снег. Я ждал тебя у выхода из метро. Ты подошла. Мы поздоровались. И пошли.
Помню, как мы потерялись. Это было так глупо и по-доброму смешно. Мы ходили кругами по московским улочкам, осторожно дотрагиваясь друг до друга аккуратными вопросами.
Помню, как потом ты рассказывала, что я сказал какую-то глупость про то, что тебе, как психологу, нужно быть спокойнее, и как ты тогда в первый раз задумалась, а не послать ли меня к чёрту прямо сейчас?
Помню, как мы сидели в баре. Ты откровенно издевалась над случайным подвыпившим парнем, который агитировал нас ехать на Казантип, а я думал, что точно не заинтересовал тебя, и эта встреча — последняя.
Я не помню, как я заказывал «самое дешёвое» пиво, но не стал с тобой спорить, когда ты вспоминала об этом потом.
Помню, как ты приехала ко мне первый раз. Признаться, я на это не надеялся. Помню фильм, который мы смотрели — «Орёл и решка», а я думал, уйдёшь ты сегодня, или останешься. Ты осталась.
Помню, как встречал тебя с какого-то корпоратива. Ты была очаровательно пьяна и не хотела сразу подниматься ко мне. Мы сидели на лавочке во дворе. Ты дурачилась, а я не мог тебя угомонить. Теперь, перед тем как подняться домой, я часто курю на этой лавочке. Но уже один. И я не хочу этого запоминать.
Помню, как мы гуляли по кладбищу. Помню, как нам было хорошо просто быть вместе. Рядом. Вдвоём.
Помню Новый год. Помню, как к вечеру я уже был залит под завязку и украл из «Тверского» два «Молескина» — для тебя, и для меня. Помню, написал на твоём «Будущему креативному директору от будущего советника Президента». Помню, как на следующий день мы ходили в кино, а потом просто гуляли. Вместе. Рядом. Вдвоём.
Помню, как ты развернулась и ушла от меня. В самый первый раз. А я ехал в метро и плакал. Помню, как ты потом привозила мне лекарства, потому что я простыл.
Помню, как ты рассказала изумительную историю про девочку, которая говорила «трахацца!». И про то, как любя называл тебя «чумичкой», а ты сердилась, я помню.
Помню, как вечерами я дописывал свою магистерскую, а ты сидела на кровати и листала журналы, коробку которых я притащил с первого этажа. Мы были тогда настоящей парой. Молодой и счастливой. Я это так помню.
Помню, как удивился, когда узнал, что ты не видела фильмы «Брат» и «Брат-2» , и потом мы смотрели их перед сном, а я с заумным видом давал тебе комментарии.
Помню, однажды твой приезд попал на выходные, и весь следующий день мы не вылезали из постели и занимались любовью. Снова и снова. Ещё и ещё. Помню это ощущение, словно вокруг нет никого и ничего, мы только вдвоём, и это — навсегда.
Помню, как ты рассказывала как тебе приходилось работать летом в магазине, стоя весь день на ногах. Помню, как ты рассказывала, как обварила себе руки. Мне было так жаль тебя, и я обнимал тебя так сильно, словно эта сила могла что-то изменить.
Помню, как мы разругались посреди улицы, и как потом я не мог приготовить простейшие блины. У меня просто тряслись руки.
Помню, как мы ходили на Biopsihoz, и как стояли как вкопанные, ошарашенные творящимся на сцене и вокруг нас. Моя единственная фотография, где мы вместе — оттуда.
Помню, как мы гуляли по Марьиной Роще, как ты рассказывала про свой первый концерт «Пилота» в Вологде, и какими немыслимыми трудами тебе это далось. Девочке, учившейся в престижной школе. Помню, как в тот же вечер мы впервые отважились заглянуть в KillFish и как посмеивались над происходящим, вспоминая какие-то свои истории из «нулевых», в которых словно застрял этот бар, и радуясь тому, что нам не нужно объяснять друг другу, о чём мы говорим.
Помню, как в конце марта мы гуляли весь воскресный вечер. Когда на «Воробьевых горах» мы наконец закончили путь, начатый с «Международной», у меня буквально отваливались ноги.
Помню, как мы встречались в районе трёх вокзалов перед твоим отъездом в Вологду. Помню, как объяснял тебе азы фотосъёмки, показывая, что такое «выдержка» и «диафрагма», рассказывая про «глубину резкости».
Я уже точно не помню, но, по-моему , это был последний раз, когда я тебя видел. Потом я слег с весенней простудой, а ты уехала в Европу. Казалось, оправившись, я уехал на майские в Ижевск. Чтобы снова слечь. С простудой, с депрессией, с непонятными перспективами и всеми шансами больше не вернуться в Москву. Чтобы сделать одну из самых чудовищных ошибок.
Когда я возвращаюсь к этим воспоминаниям, то после первоначального тепла, последующей горечи и завершающего смирения, где-то глубоко внутри себя я чувствую спокойную тихую радость. Которой бы не было, если бы в мою жизнь год назад не вошла ты. И уже ради этого стоило все это сделать и испытать. Чтобы снова прочувствовать всем естеством, что такое любить другого человека. Когда я уже был абсолютно уверен, что заработал иммунитет от этой заразы.
четверг, 6 ноября 2014 г.
Обуховские чтения
Потом началось сотрудничество со Спутником, и какую-то экзистенциальную беллетристику я стал писать меньше.Потом появился «Злой Rock», и я с головой ушёл в него. На это же наложилась смерть ЖЖ-де-факто , и я практически перестал писать. Те, свои, узнаваемые «Обуховские» эссе.
Несколько произошедших в недавнем прошлом событий побудили меня снова взять ручку, тетрадь (свои черновики я пишу на бумаге) и снова начать писать. Но как любой, кто пишет, я хочу быть прочитанным. И мне стало интересно, а помнит ли вообще хоть кто-нибудь , хоть что-нибудь из того, что я раньше делал? Хоть одну тему? Хоть один пост?
Понятно, что я все равно буду публиковать эти заметки, подлинный смысл которых будет понятен лишь мне, мне одному, но как бы хотелось знать, что есть ещё кто-то , кто заходит на эту забытую страницу и смотрит. Чего там Обухов сегодня написал?

воскресенье, 12 октября 2014 г.
понедельник, 8 сентября 2014 г.
вторник, 19 августа 2014 г.
вторник, 12 августа 2014 г.
вторник, 29 июля 2014 г.
суббота, 26 июля 2014 г.
На 28-летие
Завтрашнее воскресение непримечательно ничем, кроме одной мелочи. Завтра мне исполнится 28 лет.
«Отмечать», а тем более «праздновать» эти дни я перестал лет с 16. Наверное, тогда для меня и закончилосьДетство-то , в котором считаешь дни до этого праздничного утра; старательно ставя крестик на каждом «оставшемся», на каждом «отделяющем» тебя от горки завернутых в шуршащий цветной целлофан, дне. С нажимом, какой только может быть у детского кулачка, держащего чешский фломастер.
Помните фильм «Время»? Он оказался для меня близок. У каждого из нас в какой-то момент начинается «свой» отсчет.
Режиссеры обычно берегут своего зрителя, а писатели — своего читателя. Но Реальность — не бережет никого. И если у героев фильма был хотя бы шанс (достать, добыть, украсть еще немного времени), то ни у кого из нас этого призрачного шанса нет. И нет даже призрачного шанса на этот призрачный шанс.
На лице греческой Фемиды наложена повязка. Чтобы она не могла видеть — кого миловать, а кого — карать. Сегодняшний день, избаловавший и изнеживший нас до состояния, когда мы разучились учиться на ошибках, которые могут привести к непоправимому, а каждый наш шаг застрахован и перестрахован, мы набрались наглости воспринимать всерьез такие вещи как Судьба, Провидение и произносить вслух кощунственное «Все, что не делается — все к лучшему» и безумное «Все будет хорошо».
У каждого из нас есть свое хобби. Я — обожаю учиться. Я испытываю удовольствие неописуемой степени, когда мне удается найти очередной ответ на очередной, столько долго мучивший меня вопрос. Помните, когда только-только появился Вконтакте, там была графа «Деятельность» (или что-то подобное)? Еще тогда, в 2007 году я написал «Вечный поиск ускользающей гармонии в попытке понять природу вещей и явлений». Это пример совершенно не свойственного для меня постоянства.
Так чему я научился к 28-ми ? За прошедший год я сделал для себя несколько открытий. Я сознательно умалчиваю об их «приятности», или «неприятности». Потому что для них, как Субъектов, не играет никакой роли сторонний взгляд на них. И мы даем оценки событиям и предметам, и со своими же оценками и работаем.
В Жизни нет Судьбы. В жизни нет Провидения. В ней есть лишь Решения, которые ты принимаешь. И есть лишь Последствия, которые ты получаешь. И есть Реальность, с повязкой на глазах, для которой нет фаворитов и аутсайдеров, и которая не знает слов «повезло» — «не повезло», и которая знает только «сделал» — «получил».
Все сказанное выше способно создать гнетущее впечатление. Но было бы глупо, получив от Учителя справедливый нагоняй, насупить нос, и выйти из класса.
К своим 28-ми я научился быть терпимее, терпеливее, а главное, благодарнее ко всему, и, главное — ко всем, кто меня окружает.
Спасибо всем вам! И всем нам Счастья, Любви, и Мира. Хоть в 28, хоть когда. Чин-чин !


суббота, 21 июня 2014 г.
Главная претензия к Владимиру Путину
ЕСЛИ НЕ ПУТИН, ТО КТО?

Год назад я разбирал феномен политического «мессианства» и в форме эссе рассуждал, почему харизматичный лидер в политике (который придёт и всё поправит) — это действительно «многое», но ещё далеко не «всё».
Когда в декабре 2011 года на улицах крупных городов прошли массовые демонстрации, ключевым лозунгом манифестантов было требование честных выборов. И главным «контраргументом» аффилированных с Кремлем медиа стал тезис «Если не Путин, то кто?» Российский обыватель, за чьё мнение и шла борьба, согласился: «никто». В политическом истеблишменте образца 2011 года Владимиру Владимировичу действительно не было равных ни по прежним заслугам, ни по опыту, ни по электоральному весу. По крайней мере средний избиратель перед мартовскими выборами 2012 года о таких претендентах не знал. Неужели их и правда не было? И если так, то куда они делись?
Прошло несколько лет. Вопрос так и не получил ясного ответа, а крымская эйфория замела эту дискуссию под кремлевский ковер. Надолго ли? Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чём фокус! Наш российский Акелла по-прежнему силён, над Россией взошло солнце Русской Весны, и ничто ничего не предвещает. Но становится всё сложнее отмахиваться от мыслей, что будет происходить в России «после Путина», кому и какое место в ней достанется, и, главное, по какому принципу произойдёт это распределение?
ЧТО ВИСИТ В КАБИНЕТЕ КАЖДОГО ЖУЛИКА?
У всякой власти есть «лицо». Да, её можно представить как абстракцию, но когда мы задумываемся о власти, когда представляем её, будь то правители прошлого или наши современники, власть всегда находится в чьих-то «руках». Что на троне, что в кабинете Белого дома сидит конкретный человек. И у него есть имя.
И если мы охватываем взором государства далекие либо вовсе отошедшие в прошлое, когда мы, заведомо упрощая, можем говорить о Вавилоне как таковом, то, рассматривая примеры более близкие, практически невозможно провести сплошную прямую линию, не разделяя её условно на периоды, будь то Русь Ивана Грозного, Российская империя при Екатерине II или Брежневский СССР. Да, это примеры различных укладов, политических систем и общественных отношений. Но у всех них есть свой, воплощенный в правящем политике облик. В определенном смысле можно сказать, что политики и воплощают собой тот политический строй, в рамках которого они находятся. Но нужно понимать, что все они пришли к власти не просто в результате политической борьбы, а борьбы, ведущейся по определенным правилам (когда отсутствие правил — тоже вид правила). И то, по каким условиям ведётся политическая игра, и определяет подлинное «лицо» власти, а не портрет, который висит в кабинете каждого жулика. Персона, стоящая у руля власти, чаще является следствием работы политической системы, нежели её причиной. Кулуарные интриги внутри ЦК как главный инструмент политической борьбы привели к власти Сталина. Состязательная демократия открыла путь во власть для Тэтчер.
ИНСТИТУТ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО КАФЕДРЫ И СЕМЕСТРЫ
Каждый человек слышал про «институты». Когда я был ребенком, «институтом» для меня было место, где учатся студенты. Позже я узнал такие выражения, как «институт брака», «институт права» и даже «институционализация». Умело употребляемые, эти выражения, ложась в контекст, часто представлялись естественными, интуитивно понятными вещами. Но смогли бы вы дать четкий, развернутый ответ на вопрос «что такое «институт»?
Как у любого другого сложного, комплексного понятия, определение этого выражения зависит от ситуации, в которой мы его рассматриваем. Обобщая, можно сказать, что «институт» — это набор доминирующих представлений о должном порядке вещей, поведении людей и путях разрешения тех или иных ситуаций. Этот набор представлений вырабатывается и меняется в процессе социального развития. У отдельного человека может быть свое, эксклюзивное мнение по тому или иному поводу (и это его право). В виде общественных институтов оформляются только безусловно преобладающие взгляды.
Упрощая дальше, можно сказать, что «институт» — это ПРАВИЛА, которые позволяют быстро и эффективно договариваться по поводу одних (более простых) вопросов, для того, чтобы перейти к разрешению других (более сложных). Ведь вся история общественного развития есть поступательное движение по пути усложнения общественных отношений (с одновременным упорядочиванием), кое-упорядоченное усложнение — это необходимая общественная «плата» за возрастающее (по мере общественного развития) количество материальных и нематериальных благ, которым начинает располагать общество (простите за академизмы).
В этом месте необходимо сделать акцент на том, что существует прямая связь между уровнем общественного благосостояния и уровнем развития общественных институтов, которые обеспечивают накопление и приумножение общественных благ.
XX век, насыщенный событиями исторического масштаба, ставший свидетелем глобальных экспериментов, рождения и угасания идей и последствий их реализации, полон наглядных примеров того, как, кем, и с какими целями строились, изменялись и уничтожались общественные институты. И к чему это приводило.
ТАКОГО, КАК ПУТИН
Количество публикаций и общественных споров на тему преимуществ демократических выборов сравнимо, наверное, только с количеством споров в онлайне и оффлайне по поводу преимуществ просвещенного этатизма. Можно понять тягу человека к постоянству и стабильности, воплощаемой в образе сильного государственного лидера. Постоянного. Ну кому хочется целыми днями ломать голову над решением проблем образования, здравоохранения, армии? Пусть этим занимаются там, в Кремле, а у нас есть свои заботы: семья, дом, дети. А в день выборов куда лучше поехать с друзьями на дачу: не пропадать же выходному дню.
Государь, чей город хорошо укреплен, а народ не озлоблен, не может подвергнуться нападению. Абсентеизм — форма электорального поведения, характеризующаяся отказом от участия в выборах, — стал все более распространенным явлением в России «нулевых». Сначала потому, что всё и так шло своим чередом. Потом — потому, что выбирать стало не из кого. Подробный анализ того, как это происходило, представлен в журналистском расследовании Ильи Жегулева и Людмилы Романовой. Книга «Операция „Единая Россия“. Неизвестная история партии власти» вышла в 2011 году аккурат перед декабрьскими выборами в Думу и содержала в себе подробный хронологический разбор того, как зачищалось российское политическое поле в 2000-е . Зачищалось вокруг одной единственной фигуры. Для чего?
Справедливости ради нужно сказать, что сверхконцентрация власти может иметь и положительные моменты. «Вертикальные» авторитарные политические режимы обладают куда более мощным мобилизационным потенциалом по сравнению с «горизонтальными» демократическими. Политический лидер, не имеющий необходимости отвлекаться на улаживание разногласий с оппозицией, переговоры с законодательной и судебной ветвями власти и прочие мелочи, способен принимать и реализовывать стратегические политические решения быстро и эффективно. Смог бы Пётр I добиться реализации своих реформ, не будь он самодержавным правителем? Ещё один вопрос: отвечает ли такая сверхконцентрация власти вызовам сегодняшнего дня? И если подобные вызовы действительно есть, оправдывает ли своими действиями обладатель власти право на неё?
Одним из главных политических антагонизмов является противостояние персонализированного и обезличенного. Для персонализированных политических систем характерны авторитарные черты, сакрализация политического лидера и замыкание всей общественной дискуссии на личности «вождя». Реальный человек подменяется полумифическим образом, который трансформируется больше под воздействием электоральных ожиданий, чем как адекватный ответ на системные вызовы. Замыкание политической системы на персоне не признак «стабильности». Это явное указание на тлеющий политический кризис, готовый разразиться в реальности в любой момент.
Обезличенные общественно-политические системы за счет отсутствия привязки к конкретной персоналии воспроизводят сами себя и гораздо более жизнеспособны. Это и есть те самые «институты», работа над поддержанием и совершенствованием которых есть залог стабильного поступательного движения общества и которые планомерно уничтожались все последние годы.
Не имея возможности совсем отказаться от демократического антуража, сотрудники АП планомерно заменили всеболее-менее работоспособные институты на имитационные. Столь же безопасные, сколь бесполезные.
ЧТО ОСТАНЕТСЯ ПОСЛЕ ТЕБЯ?
Нас долго и упорно пытались убедить в том, что «всё будет хорошо», что у Путина есть «План» и нужно только не мешать ему его осуществлять. Под «помехами», очевидно, имелось в виду желание некоторых людей и общественных объединений принять участие в политическом процессе. Большее, чем-то предполагала схема «экономическое благополучие в обмен на политические права». Исчезли выборы губернаторов. Не стало одномандатников. Росли проценты проходных барьеров и ужесточались требования к политическим партиям. Политическая карьера стала немыслима без унизительного членства в ублюдочных движениях и партиях. Политика как здоровая борьба идей и конфликтов интересов сменилась цыганщиной политтехнологий и азиатским карнавалом безальтернативных выборов. И всё это подавалось как всеобщее благо, которое нужно ценить и которое неизбежно исчезнет, как только в Кремле окажется кто-то другой, кроме тех, кому можно.
Человек уйдет — система останется. Но если эта система замкнута на самого человека, она уйдет вместе с ним. Что тогда будет стоить хваленая «путинская стабильность», если она исчезнет на следующий день после того, как Владимир Владимирович нас покинет?
Нас ждёт Постпутинская Пустота, вакуум, которой начнут заполнять шулеры-политиканы всех мастей — от ультралевых до ультраправых, — и хаос, неизбежный в ситуациях, когда ясные, четкие и универсальные (для всех) правила подменяются кулуарными договоренностями. Не стоящими ничего. Где всё опять придётся начинать сначала.
И это, пожалуй, главная претензия к Путину.
Но примеры последнего времени дают основания полагать, что мы справимся, пожалуй, и с этим.

суббота, 15 марта 2014 г.
Главная проблема политики в России
«Силён в политике и в спорте,
И в экономике силён.
А ты чего добился в жизни, г##дон?»
(разговор кухонный, типичный. фрагмент)
И в экономике силён.
А ты чего добился в жизни, г##дон?»
(разговор кухонный, типичный. фрагмент)
Главная проблема политики в России — это не сильная президентская власть. Зачастую это последний мощный предохранитель от сепаратистских настроений. Главная проблема политики в России — это не разросшийся бюрократический аппарат. Да, чиновники в России есть, их много, и это — правда. Но поступательное развитие любого субъекта (компании, организации, государства) всегда сопровождается унификацией и неизбежным усложнением бюрократических отношений. Так что здесь всё тоже не так просто. Главная проблема политики в России — не отсутствие представительных выборов. Пример соседнего Китая наглядно иллюстрирует, что экономический рост не обязан опираться на демократические процедуры, а принципы меритократии, стоящие во главе угла кадровой политики Коммунистической партии Китая, пособны эффективно работать и при авторитарной форме правления. Главная проблема политики в России — не попы, и не менты. Главная проблема политики в России — это лично ты, потому что ты читаешь, смотришь, и слушаешь не то.

В идеале, разработкой новых стратегических курсов и мировоззренческих концепций, определяющих жизнь и смерть очередного поколения, должны заниматься учёные мужи с высокими лбами, сидящие в уютных кафедрах старейших университетов. Но современная российская реальность такова, что в стране, где процент людей с высшим образованием огромен, навыки, полученные студентами за годы обучения, не является актуальным для текущего дня; распространённое место трудоустройства дипломированного инженера — салон сотовой связи, а некоторым специальностям не обучают вообще нигде, кроме специализированных курсов, устраиваемых самими компаниями-нанимателями (я говорю об отраслях с феноменально высокой динамикой развития — IT, digital, media, интернет-реклама, etc).
Политология — предмет снисходительного отношения и ехидных насмешек — методологически ничем не отличается от всех других наук. И как у всех остальных, одна из её основных функций — объясняющая. Физические процессы есть проявление физических законов. Химические процессы есть проявление законов химии. Биологические процессы — зарождение жизни и неизбежная смерть — есть проявление непреложных законов Природы. Социальные процессы, возникновение обществ, и исчезновение государств — есть проявление законов общественного развития. Изучением всего многообразия общественных феноменов занимаются науки об обществе. Эта научная деятельность ведёт к расширению границ человеческого познания. Конечная цель этой работы — анализ, интерпретация и прогнозирование — ещё один шаг вперёд и вверх по бесконечной лестнице цивилизационного развития.
В идеале, ведением этой объяснительной работы, освещающей человеку всё многообразие и богатство мира, должны заниматься представительные люди с умными лицами, в редакциях авторитетных газет, студиях популярных телевизионных каналов и радиостанций. Но современная российская реальность такова, что в стране, где количество выпускников журфаков может сравниться с количеством юристов и бухгалтеров, понятие «журналист» стоит в синонимичном ряду не самых потребных выражений. Масла в огонь подливают сами представители профессии, чья «гражданская позиция» не заходит дальше выпуска дурно оформленных эротических календарей и мелких, неумных, а главное — не вызывающих никаких реальных последствий, и поэтому абсолютно безопасных «акций». И те немногие, что по-амбициознее, по-циничнее и по-наглее, пролезшие в заголовки, на экраны, в эфиры — по определению быстрее всех схватывающие всё на лету, шестым чувством улавливающие малейшие изменения настроения тех, кому нужно понравиться, кому нужно угодить — становятся уже совсем другими людьми, предельно далёкими от тех, кого можно было бы назвать «журналистом».
Философ Галковский сказал: «Нейрон должен быть нейроном, а не эпителием кишечника. То есть первая фаза — добиться, чтобы директора мебельных магазинов не управляли вооружёнными силами». К этому добавили: «В России самый популярный блог про отношения принадлежит проститутке, а политикой пытаются заниматься фотографы, журналисты и поэты. Во многом отсюда все и беды».
На месте тех, кто должен стоять между научной, политической, экономической и культурной элитами и рядовыми налогоплательщиками, стоят свадебные фотографы, блогеры и уроженцы республик бывшего СССР. На том месте, где должна находится русская интеллигенция, зияет огромная дыра, забитая праздничными новиопами. И между редакциями модных журналов с офисами в центре Москвы и теми, кто мимо этих офисов проходит — пропасть. Поэтому неудивительно, что сами эти «молодые, образованные и прогрессивные» искренне не видят более актуальных тем, чем защита жирафов в зоопарках Дании, проблемы гомосексуалистов Бутово, счастливый конец истории любви хозяина и его пылесоса: альбац — отдельно, русские — отдельно.
Главная проблема политики в России — это отсутствие русской интеллигенции, осознающей русские интересы, объясняющей русские интересы, и защищающей русские интересы. Которые могут пересекаться с тем, что делает Путин, которые могут не пересекаться с тем, что делает Путин, которые вообще не зависят ни от каких персоналий. Русские интересы были, есть, и будут всегда. Путин — нет. Поэтому не имеет значения, чьими руками отстаивают сегодня русскую выгоду. Высший пилотаж политики как раз в этом — вынудить противника действовать так, как выгодно тебе. И эту выгоду получать. Хоть с Богом, хоть с чёртом, хоть с Владимиром Владимировичем. Он уйдёт — мы останемся.
Как останется с нами Крым — первая ласточка, первый подснежник, первая оттепель ласковой, нежной, долгожданной Русской Весны. Музыкальная капель которой и первые весенние ручьи смоют с оплёванного русского лица всю слизь и грязь тех, для кого естественный исторический процесс форматирования искусственных государственных границ в соответствии с естественными этническими границами — «ватничество», «имперство», «нарушение международных норм».

Социальные процессы, возникновение обществ, и исчезновение государств — есть проявление законов общественного развития. И эти законы не подчиняются «нормам международного права».
И, к сожалению, почти нет тех, кто мог бы это объяснить, донести, поспорить. Русские — это цель? Или русские — это средство?
И это, пожалуй, главная проблема политики в России.
воскресенье, 16 февраля 2014 г.
Год и одна неделя
После этого всегда остаётся лёгкое чувство растерянности.

Когда ты бежишь марафон, на всём его протяжении тебе кажется, что он бесконечен. Неважно, начало ли это, середина, или конец, когда уже виднеется финишная черта, тебе кажется, что эта гонка не закончится никогда, или, как минимум, точно не скоро. А потом ты падаешь навзничь, и тяжело дыша и сплёвывая, оборачиваешься назад. И всё, что казалось таким нескончаемым, или, как минимум, чудовищно долгим, кажется таким скоротечным.
Три года, прошедшие с момента, когда я, сидя в кресле напротив открытого балкона (было лето), решил, что сейчас, пожалуй, самое подходящее время начать то, к чему я всегда питал живой интерес, и к чему, если верить учителям и преподавателям, имел некоторые способности. К началу осени я остановил свой выбор на одном из московских ВУЗов, в течение сентября—октября выполнил все необходимые формальности и стал ждать вызова на установочную сессию. Так я начал учиться на заочном отделении магистратуры по политологии.
Почему Москва? Я не устаю повторять, что если ты хочешь стать моряком, тебе нужно ехать к морю; хочешь стать фермером?, — поезжай в деревню. У человека, серьёзно нацеленного изучать общественные науки, нет другого выбора, кроме как ехать в столицу — место средоточия власти и средоточия институтов по изучению власти.
В том, что я не ошибся, я убедился сразу. Преподаватели, принимающее непосредственное участие в политическом процессе, и сама, не близость даже, — включённость в него, давала все возможности для того, чтобы изучать не сухую и скучную теорию политики по выпущенным в прошлом веке учебникам, а нырять с головой в цветущее болото российской политики. После кладбищенской тишины провинциальной размеренности, московские площади, переполненные «рассерженными горожанами», по-просту оглушали.
А потом я возвращался «домой» — в общежитие в районе разогнанного Черкизовского рынка, обитатели которого даже не подозревали, что сейчас происходит вокруг них, а значит неизбежно отзовётся и на них тоже. Но я ценил эту редкую возможность просто посидеть и послушать — о чём разговаривают эти люди? Что им по-настоящему нужно. Им, молодым парням «после армии», которые и хотели бы честно работать, но понимают, что «это — не вариант». Им, мужикам «за сорок», которые всерьёз думают, что «либерал» — это синоним слова «пидор». Им, бесформенным русским бабам, которым нужно лишь то, чтобы их мальчиков не посылали на очередную бессмысленную недельную войнушку. Так и путешествовал между двумя мирами — от светлых институтских аудиторий и площадей, наводнённых честными, чистыми лицами, до тесных коморок, заставленных двухэтажными «нарами», где провести ночь стоило 250 рублей.
Потом была вторая сессия, и набитая под завязку случайными судьбами квартира на Ярославском шоссе. Потом третья сессия и неописуемая роскошь — надувная кровать в квартире сестры и её мужа в Выхино. Потом была четвёртая сессия, после которой я остался.
Признаюсь честно, даже полгода назад (что уж говорить о конце 2011-го , когда я ехал в прямом смысле слова «в никуда»), находясь уже на финишной прямой, я всё ещё сомневался — смогу ли, доберусь ли до конца? Смогу ли поставить достойную точку в этой трёхлетней истории, которую сам же так легко и так легкомысленно заварил? Хватит ли мне сил, знаний, умений самому написать свою первую серьёзную научную работу и достойно её защитить? Получится ли?
Три недели назад, 25 января 2014 года, я успешно защитил магистерскую диссертацию на тему «Интернет-СМИ и их влияние на политический процесс в современной России». Неделю назад, 8 февраля, исполнился год, как я переехал в Москву. И этот переезд стал одним из самых правильных поступков, которые я делал.

(понятная иллюстрация: «Начиная с 1-го курса всегда и всем говорите, что вы — политолог!», Анна Никлаус, преподаватель)
суббота, 4 января 2014 г.
Пост-новогодний лытдыбр
Ни дня без строчки.
Я слишком давно этого не делал. Пожалуй, даже слишком. Не брал в руку карандаш, не брал лист белой бумаги, не начинал писать. «Степень своего участия каждый определяет сам», — так писал Чак Паланик. «Мы — это то, что мы делаем», — так всегда говорил я. Величина нашего присутствия в этом мире определяется степенью нашего влияния на него. Я форматирую реальность вокруг себя своими Мыслями, воплощая их в Слова, которые становятся Действием.

Сейчас во мне роятся несколько мыслей. Между нет прямой связи, кроме той, что все они сплетены в клубок внутри головы одного человека. В моей голове.
Ты не отпускай меня.
Я люблю возвращаться в Ижевск.
В последнюю неделю сентября (и нет, это не строчка из «эмо»-песни) я снова делал это. Уже не домой. Уже в «Ижевск». Этот город никогда не был мне домом. А я никогда не чувствовал себя в нём «родным». А если такое время когда-то и было, то так давно, что прочно стёрлось из моей, обычно намертво хранящей тысячи мелочей, памяти.
Но то, что было — было. А то, что было со мной — было со мной. Там, в Ижевске. И в тысяча первый раз проходя по всё тем же местам и дорогам, намертво, навсегда повисшим на колючей проволоке, сплетенной из времени и пространства, ты видишь вокруг себя не дома, деревья, школы, аптеки или почту, которые ты уже просто не замечаешь, как перестаешь замечать трещину на стене, мимо которой проходишь в тысяча первый раз. Ты видишь архаичную мозаику из прозрачных цветных диафильмов, на каждом из которых изображён… ты.
Вглядываясь чуть внимательнее ты начинаешь различать неясные, потускневшие фигуры. Кого-то ещё можно узнать, кто-то уже почти слился со своей тенью. Но эти призраки не пугают тебя, хотя и стремятся приблизиться, осторожно, с нехарактерной для бестелесных фигур четкостью движений обнять тебя, прижать, окутать собой, вобрать в себя, утащить — туда, обратно, в один из этих выцветших, потускневших диафильмов. Удавкой обвиться вокруг твоей шеи пуповиной «малой Родины» и уже никогда никуда не отпускать.

Вглядываясь чуть внимательнее ты начинаешь различать неясные, потускневшие фигуры. Кого-то ещё можно узнать, кто-то уже почти слился со своей тенью. Потухшие огни, свет и тепло которых ты ещё так ясно помнил, но уже начал забывать. И скоро уже забудешь.
Я перестал любить возвращаться в Ижевск.
Москва, я люблю тебя.
Я окончательно переехал. В город, который всегда влёк меня к себе. Город, в котором я чувствовал главное: себя — собой. Город, в котором мне не нужно было втискиваться в уродующие разум и душу колодки жизни в провинции. Привычные для других. Невыносимые для тебя. Город, в котором ты можешь слепить себя таким, каким только сможешь, слепить своё окружение таким, на какое хватит твоего собственного содержания, которое теперь есть кому оценить, и кому дать оценку. Ту, к которой ты теперь прислушаешься.
За (без малого) год в Москве я сделал… много или мало? «Настоящий творец не бывает доволен своим произведением», — и это ещё одна фраза из моей копилки. Ясно одно — я мог сделать это только здесь: начать зарабатывать своей головой, и тем, что в неё помещается — интеллект, чувство юмора, вкус и креативность. Вышел на финишную прямую своего образования и уже начал активно применять свои знания. Вновь вернулся к «баловству» «муз.журом» и решился на то, на что ещё год назад никогда бы не подписался — запилил с напарником собственную информационную площадку.

Год профессионализма.
 bombay_duck каждый свой год посвящает какой-то теме: «год моего дома», «год красоты», «год социализации». Если задуматься о том, чему бы хотел посвятить этот год я, то это определенно должен быть «год профессионализма». Болтаясь от мнения (чужого) к мнению (чужому) родителей, «маминых подружек», «школьных учителей», «авторитетных старших товарищей» и прочих советчиков, я не получил ничего, кроме запущенного экзистенциального кризиса, переросшего в невроз и полной дезориентации себя, и своего места в этом мире. Но выражаясь категориями политической науки и адаптируя терминологию системного подхода и структурно-функционального анализа, «жизнь — это перманентный процесс поиска и применения адекватных решений к перманентно возникающим задачам и оценка последствий этих действий». Меньше, чем через месяц я стану обладателем своей первой научной степени. Да, это будет всего лишь «магистр». Да, я заканчиваю не МГИМО, и не МГУ. Но для меня вся важность этого события заключается в том, что за последние годы постоянной, и очень тяжёлой работы над собой и преодоления сопротивления окружающей среды я, наконец, кажется вырвался из порочного круга стоящих на моем пути препятствий, сложенных из чужих оценок, чужих мнений, чужих восхищений и чужих разочарований. Чужих и чуждых. Вырвался для того, чтобы заниматься, наконец, тем, что нравится, и чем должен. Заниматься профессионально. Настолько, насколько только смогу. Я сам.
bombay_duck каждый свой год посвящает какой-то теме: «год моего дома», «год красоты», «год социализации». Если задуматься о том, чему бы хотел посвятить этот год я, то это определенно должен быть «год профессионализма». Болтаясь от мнения (чужого) к мнению (чужому) родителей, «маминых подружек», «школьных учителей», «авторитетных старших товарищей» и прочих советчиков, я не получил ничего, кроме запущенного экзистенциального кризиса, переросшего в невроз и полной дезориентации себя, и своего места в этом мире. Но выражаясь категориями политической науки и адаптируя терминологию системного подхода и структурно-функционального анализа, «жизнь — это перманентный процесс поиска и применения адекватных решений к перманентно возникающим задачам и оценка последствий этих действий». Меньше, чем через месяц я стану обладателем своей первой научной степени. Да, это будет всего лишь «магистр». Да, я заканчиваю не МГИМО, и не МГУ. Но для меня вся важность этого события заключается в том, что за последние годы постоянной, и очень тяжёлой работы над собой и преодоления сопротивления окружающей среды я, наконец, кажется вырвался из порочного круга стоящих на моем пути препятствий, сложенных из чужих оценок, чужих мнений, чужих восхищений и чужих разочарований. Чужих и чуждых. Вырвался для того, чтобы заниматься, наконец, тем, что нравится, и чем должен. Заниматься профессионально. Настолько, насколько только смогу. Я сам.
На рубеже старого и нового года часто хочется провести демаркационную линию, разделив всё на «раньше», и «сейчас», оставив прошлому то, что должно быть там оставлено и взяв с собой то, что должно быть взято.
Пусть каждому из нас это удасться.
С наступившим Новым годом, друзья!

Я слишком давно этого не делал. Пожалуй, даже слишком. Не брал в руку карандаш, не брал лист белой бумаги, не начинал писать. «Степень своего участия каждый определяет сам», — так писал Чак Паланик. «Мы — это то, что мы делаем», — так всегда говорил я. Величина нашего присутствия в этом мире определяется степенью нашего влияния на него. Я форматирую реальность вокруг себя своими Мыслями, воплощая их в Слова, которые становятся Действием.

Сейчас во мне роятся несколько мыслей. Между нет прямой связи, кроме той, что все они сплетены в клубок внутри головы одного человека. В моей голове.
Ты не отпускай меня.
Я люблю возвращаться в Ижевск.
В последнюю неделю сентября (и нет, это не строчка из «эмо»-песни) я снова делал это. Уже не домой. Уже в «Ижевск». Этот город никогда не был мне домом. А я никогда не чувствовал себя в нём «родным». А если такое время когда-то и было, то так давно, что прочно стёрлось из моей, обычно намертво хранящей тысячи мелочей, памяти.
Но то, что было — было. А то, что было со мной — было со мной. Там, в Ижевске. И в тысяча первый раз проходя по всё тем же местам и дорогам, намертво, навсегда повисшим на колючей проволоке, сплетенной из времени и пространства, ты видишь вокруг себя не дома, деревья, школы, аптеки или почту, которые ты уже просто не замечаешь, как перестаешь замечать трещину на стене, мимо которой проходишь в тысяча первый раз. Ты видишь архаичную мозаику из прозрачных цветных диафильмов, на каждом из которых изображён… ты.
Вглядываясь чуть внимательнее ты начинаешь различать неясные, потускневшие фигуры. Кого-то ещё можно узнать, кто-то уже почти слился со своей тенью. Но эти призраки не пугают тебя, хотя и стремятся приблизиться, осторожно, с нехарактерной для бестелесных фигур четкостью движений обнять тебя, прижать, окутать собой, вобрать в себя, утащить — туда, обратно, в один из этих выцветших, потускневших диафильмов. Удавкой обвиться вокруг твоей шеи пуповиной «малой Родины» и уже никогда никуда не отпускать.

Вглядываясь чуть внимательнее ты начинаешь различать неясные, потускневшие фигуры. Кого-то ещё можно узнать, кто-то уже почти слился со своей тенью. Потухшие огни, свет и тепло которых ты ещё так ясно помнил, но уже начал забывать. И скоро уже забудешь.
Я перестал любить возвращаться в Ижевск.
Москва, я люблю тебя.
Я окончательно переехал. В город, который всегда влёк меня к себе. Город, в котором я чувствовал главное: себя — собой. Город, в котором мне не нужно было втискиваться в уродующие разум и душу колодки жизни в провинции. Привычные для других. Невыносимые для тебя. Город, в котором ты можешь слепить себя таким, каким только сможешь, слепить своё окружение таким, на какое хватит твоего собственного содержания, которое теперь есть кому оценить, и кому дать оценку. Ту, к которой ты теперь прислушаешься.
За (без малого) год в Москве я сделал… много или мало? «Настоящий творец не бывает доволен своим произведением», — и это ещё одна фраза из моей копилки. Ясно одно — я мог сделать это только здесь: начать зарабатывать своей головой, и тем, что в неё помещается — интеллект, чувство юмора, вкус и креативность. Вышел на финишную прямую своего образования и уже начал активно применять свои знания. Вновь вернулся к «баловству» «муз.журом» и решился на то, на что ещё год назад никогда бы не подписался — запилил с напарником собственную информационную площадку.

Год профессионализма.
На рубеже старого и нового года часто хочется провести демаркационную линию, разделив всё на «раньше», и «сейчас», оставив прошлому то, что должно быть там оставлено и взяв с собой то, что должно быть взято.
Пусть каждому из нас это удасться.
С наступившим Новым годом, друзья!

Подписаться на:
Сообщения (Atom)